Жила была девочка. Доп. мат. 5 Морской корпус
Морской кадетский корпус – военно-морское учебное заведение в Санкт-Петербурге. Несмотря на формальный перерыв в преемственности после 1917 года, претендует на то, чтобы считаться старейшим в России.
До революции воспитанники старшего класса назывались гардемаринами, а двух младших – кадетами.
В середине XVIII века в России имелось три учебных заведения, которые готовили специалистов для флота: московская Навигацкая школа, Морская академия и Гардемаринская рота. Вице-адмирал В.Я. Римский-Корсаков предложил оставить одно учебное заведение с расширенной программой, но с сохранением элементов высшего образования, и, по указу императрицы Елизаветы Петровны 15 (26) декабря 1752 года на базе Морской академии был создан Морской кадетский шляхетский корпус на 360 учащихся; Навигацкая школа и Гардемаринская рота были упразднены. Название указывало на то, что учебное заведение было предназначено для лиц дворянского происхождения.
На содержание корпуса было назначено ежегодно 46 561 рубль. Для помещения отведен дом, бывший Миниха, на Васильевском острове, на углу набережной Большой Невы и 12 линии.
В строевом отношении учащиеся делились на три роты, в учебном – на три класса. Воспитанники первого выпускного класса именовались гардемаринами, второго и третьего – кадетами.
В 1762 году Морской кадетский шляхетский корпус переименован в Морской кадетский корпус. В 1771 все постройки корпуса сгорели, и он был переведен в Кронштадт. Морской кадетский корпус разместился в здании Итальянского дворца, где оставался до декабря 1796 года, после чего был возвращен в Петербург.
Павел I в ноябре 1796 года выразил желание, «чтобы колыбель флота, Морской кадетский корпус, был близко к генерал-адмиралу», и приказал перевести корпус в Санкт-Петербург, на то место, где он находится в настоящее время.
В 1826 число воспитанников увеличено до 505 человек, содержание – до 341 565 рублей. В 1827 году при корпусе учреждены офицерские классы, которые в 1862 были преобразованы в Академический курс морских наук, с 1877 – в Николаевскую морскую академию (ныне Военно-морская академия имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова).
При общей реформе военно-учебных заведений в 1860-х годах «Морской корпус» был переименован в «Морское училище» и получил в 1867 году новый устав. В 1891 году восстановлено прежнее наименование – «Морской кадетский корпус». В начале XX века название ещк несколько раз менялось:
Морской кадетский корпус (11.02.1891 – 20.12.1906)
Его Императорского высочества наследника Цесаревича Морской корпус (20.12.1906 – 03.03.1916)
Морское училище (14.09.1916 – 09.03.1918)

Положение о корпусе высочайше утверждено 22 февраля 1894 года. Управление было вверено директору (он же начальник академии) при участии учебно-воспитательного совета и хозяйственного комитета. Общее число воспитанников составляло 320 человек, на содержание корпуса отпускалось по 208 437 рублей в год. В корпусе было 6 классов; три младших назывались общими, три старших – специальными. Для поступления в младший общий класс требовались знания в объеме курса первых трех классов реального училища.
Прием производился по состязательному экзамену, причем преимущество предоставлялось детям военных чинов Морского ведомства. Окончившие полный теоретический и практический курс гардемарины (так назывались воспитанники старшего класса) осенью производились в мичманы.
Настоящей архитектурной редкостью Морского кадетского корпуса был Столовый зал (с 1919 года – Зал Революции). Его расположили на втором этаже.

Всех поражали красота и размеры зала. Длина его (70 с лишним метров) соответствовала, как писал писатель С. Колбасьев, «длине шестисоттонного миноносца», ширина составляла 10 саженей (21 м 30 см). Столовый зал был самым большим бесколонным залом России. Его плоский потолок держался на мощных якорных цепях, прикрепленных к стенам.
Освещался он свечами восьми легких бронзовых люстр. В конце XIX века свечи заменили электрическими лампочками. Над тремя входами в зал располагались хоры (балконы), поддерживаемые изящными металлическими колоннами с канелюрами (желобками). На хорах размещался духовой оркестр, услаждавший слух обедающих по воскресеньям и в праздники. Стены зала украшала лепка из элементов герба Морского корпуса, львиных голов и военных трофеев – скульптор Солдати.
После Наваринского сражения 1827 года по распоряжению директора корпуса адмирала И. Крузенштерна в Столовый зал поместили великолепную модель брига «Наварин», (в половину натуральной величины). Она заняла место напротив входа, у задней стороны. В 1832 году справа у стены зала поставили еще одну деревянную модель фрегата «Президент». Обе модели не только украсили зал, но и служили учебными пособиями.
С 1901 года бронзовый Петр I (творение скульптора М. Антокольского) наблюдал с высоты двухметрового постамента, как ежедневно здесь проходили, помимо трапезы, разводы суточного наряда, парадные построения в день принятия присяги и выпусков. В Столовом зале проводили и балы. Ежегодно традиционный бал в Морском корпусе 6 ноября открывал малый зимний светский сезон в столице. Лучшему танцору из числа гардемаринов вручали голубой бант с надписью «Морской корпус». Обладатель банта имел право на 12 дополнительных баллов к оценкам по успеваемости в конце года.

"Белая Дама"
К Столовому залу примыкал длинный широкий коридор (ныне картинная галерея). С середины XIX века здесь начали размещать подаренные авторами или выполненные по заказу Николая I картины известных русских художников-маринистов И. Айвазовского, А. Боголюбова и других. За долгие годы существования корпуса галерея пополнялась, составив к нашему времени превосходную, редкую коллекцию маринистической живописи.
Картины приобретались не только для того, чтобы украсить учебное заведение, в котором постоянными шефами были царствующие особы. Являясь произведениями большого художественного искусства, картины несли в себе заряд нравственности и огромной информации. Рассказывая о военных победах флота России, о выигранных сражениях, о мужестве русских моряков, они вызывали чувство гордости за свою Родину, за ее прошлое.
С картинной галереей связана легенда. Рассказал ее одному из авторов этих строк выпускник Морского корпуса капитан 1 ранга Г. Бутаков. ...В 1913 году по корпусу разнесся слух о том, что по ночам в училище блуждает тень «Белой Дамы», суля тем, кто ее видел, беду и несчастье.

Однажды ночью дежуривший по картинной галерее гардемарин увидел в полумраке, как на него из зала, колеблясь и мерцая, движется нечто белое, напоминавшее женскую фигуру. Медленно, но упорно призрак приближался, к нему. Испуганный до полусмерти гардемарин вскинул винтовку и выстрелил в привидение. На выстрел сбежались дежурные, зажгли общий свет, но следов «Белой Дамы» не обнаружили. Лишь наутро в одном из портретов директоров Морского корпуса увидели отверстие от пули. Портреты директоров размещались тогда там, где теперь находятся мраморные доски с фамилиями золотых медалистов.
Компасный зал
Пройдя картинную галерею, воспитанники попадали в Звериный коридор (ныне Адмиральский). На его гладких стенах висели деревянные кормовые украшения кораблей с изображением зверей, выполненные по рисункам известного скульптора – анималиста П. Клодта. Особой любовью у кадетов и гардемаринов пользовалась фигура зубра. Существовало поверье: идя на экзамен, надо непременно дотронуться до «шаров» животного, и тебя ждет удача.
Из Звериного коридора, свернув налево, можно попасть в Компасный зал.
Он создан на пересечении трех старинных коридоров в 1843 году. В центре круглого зала пол украсила большая картушка компаса, выполненная из дорогих пород дерева. Отсюда и название зала – Компасный. В четырех его нишах раньше размещались железные круглые печи, на стенах красовались гипсовые консоли с бюстами древних философов, под ними стояли деревянные диваны.
В перерывах между занятиями у теплых печей собирались воспитанники корпуса.
В центре картушки компаса – цифра «1701» (дата основания учебного заведения). До сих пор существует неписаный закон: по картушке не ходить! Ее огибают по периметру. Для "забывчивых" картушку уже в советское время оградили шелковым кантом, подвешенным на коротеньких стойках. Правда, ненадолго. В ноябре 1945 года училище имени М.В. Фрунзе посетил Нарком ВМФ Н.Г. Кузнецов. Проходя Компасным залом, Николай Герасимович заметил начальнику училища контр-адмиралу В.Ю. Рыбалтовскому: "В наше время, когда я здесь учился, ограждений картушки не было, и никто не нарушал порядка".
...Картушка разделена на 32 равные части – румбы, Внимательный глаз заметит, что ось классного коридора не совпадает с истинным меридианом, обозначенным на картушке. Но причину этого знают далеко не все. А это история. При планировании Петербурга Петр I рассчитывал вместо улиц (теперешних линий Васильевского острова) прорыть каналы по направлению север – юг, то есть, по меридиану. Каналы вырыты не были, но улицы – линии проложили по указанному Петром направлению. Однако планировка их производилась по буссоли, указывающей, как известно, направление магнитного меридиана. И когда в 1861 году была построена в круглом зале картушка, ориентированная уже по истинному меридиану, то оказалось, что ось классного коридора отклонена приблизительно на два румба от оси картушки.
В Морском корпусе Компасный зал был вроде «лобного места». Здесь в наказание выставлялись на виду у всех кадеты, нарушившие дисциплину на занятиях. Иногда бывали заняты чуть ли не все румбы картушки.
Замурованный гардемарин
Была в корпусе и своя легенда, связанная одновременно со Столовым и Компасным залами. Она приводится в автобиографической повести «Арсен Люпен», написанной питомцем этих стен, известным писателем Сергеем Колбасьевым. Позволим себе некоторые цитаты из «Люпена»...
"Это было не то во времена декабристов, не то в год польского восстания, но, во всяком случае, еще при Николае I. В корпусе нашли крамолу, и судить виновных должна была особая комиссия под председательством директора. У дверей Столового зала поставили караул, а по самой его середине – стол, накрытый зеленым сукном. Там, за этим столом, в огромной пустоте и должна была заседать комиссия, каждое слово которой было тайной".
Но, как гласит далее повествование, друзья виновных решили отомстить особой комиссии. Они пробрались на чердак и заложили пороховые заряды под якорные цепи, удерживающие потолок Столового зала. "Им осталось только выждать, пока соберется судилище, поджечь фитили и обрушить потолок».
Согласно легенде, директором Морского корпуса был тогда некий адмирал Фондезин (фамилия, вне сомнения, вымышленная). Его сын, гардемарин, знал о заговоре и не выдержал – предупредил отца... "Мстителей схватили на чердаке, и судьба их была печальной. Но сам гардемарин Фондезин пропал на следующий день, и пропал бесследно.
И уже много лет спустя, во время ремонта Компасного зала, его скелет с остатками полуистлевшей форменной одежды был найден замурованным в одной из стен Компасного зала».
В корпусе, пишет далее Колбасьев, никогда не было директора по фамилии Фондезин, да и сама операция замуровывания едва ли технически осуществима. Но мораль легенды ясна: во все времена измена братству каралась здесь с предельной жестокостью.

Особая каста
В Морском корпусе традиционно презирались фискальство и доносительство. Известны случаи, когда даже сыновья высокопоставленных особ, уличенные товарищами в доносе, вынуждены были покидать корпус. С ними не учиняли кулачной расправы – это считалось для воспитанников корпуса ниже достоинства будущего офицера. Их просто «не замечали»: не подавали руки, не разговаривали, не отвечали на их вопросы... Такой «приговор» заставлял человека навсегда проститься с мечтой о морской карьере.
По требованию воспитанников, из корпуса, как правило, немедленно изгонялись уличенные в воровстве и других неблаговидных деяниях (в том числе и связанных с неуважительным отношением к прекрасному полу).
Не менее страшным позором для питомца этих стен были трусость и малодушие. Контр-адмирал Н. Небогатов, осужденный за сдачу японцам при Цусиме отряда кораблей, был вынужден забрать из Морского корпуса своего сына, чтобы избежать последствий негативного отношения к нему товарищей по роте... Известны случаи и на флоте, когда офицерам со сдавшихся кораблей не подавали в кают-компаниях руки.
Кстати, в те времена про выпускников Морского корпуса говорили не просто «окончил» или «получил образование» – говорили «получил воспитание». Этим подчеркивалась особая марка закрытого учебного заведения, питомцы которого сохраняли дружеские отношения с обращением «на ты» на всю жизнь... Воспитывали, а порой, как видим выше, и «отсеивали», сами корпусные традиции, которые, в сочетании с усилиями старших наставников формировали в стенах старейшей альма-матер особую касту офицеров Императорского флота.
...К «положительному опыту» вряд ли можно отнести устраивавшиеся и корпусе «бенефисы»: организованный шум (гудение) или наоборот, молчание, в знак протеста против неправильных (по мнению воспитанников) действий того или иного офицера или преподавателя.
Юный возраст наиболее чувствителен к любой фальши или – того хуже – несправедливости со стороны старших... И случалось, что неправых по отношению к воспитанникам офицеров действительно отчисляли от корпуса.
"Сэр Альманах умер!"
После сдачи гардемаринами выпускного экзамена по астрономии в корпусе проводились «похороны альманаха» («альманахом» назывался нелюбимый воспитанниками астрономический ежегодник с данными о координатах небесных светил на каждый день каждого года).
Существовал особый ритуал похорон. За несколько дней до экзамена корпус оповещали о «болезни» альманаха. В классах вывешивались бюллетени о состоянии его здоровья. Кадеты и гардемарины ходили по корпусу на цыпочках, чтобы не беспокоить «больного».
В день экзамена над головами пишущих последнюю письменную по астрономии гардемаринов «плавали» под потолком Столового зала воздушные шары с закрепленными на них плакатами: «Сэр Альманах умер!»
В ночь после экзамена старшая гардемаринская рота торжественно «хоронила» ненавистный ежегодник. В Столовом зале выставлялся почетный караул в полной амуниции с винтовками, но без всякой одежды – в голом виде. На троне из столов и красных одеял восседал «Нептун». Альманах клали в картонный гроб, около которого кружились «балерины», и вывозили на орудийном лафете.
Церемониал начинался панихидой, которую служили «священник» и «дьякон» с самодельными кадилами. Здесь же рыдала безутешная «вдова» умершего (гардемарин, подавший на экзамене работу последним). Ритуал сопровождался парадом в явно непотребном виде. «Залп» настоящей брани изображал громовой салют брига «Наварин». Гроб с альманахом кремировался в одной из печей.
Для передачи традиций на «похороны» приглашались и младшие гардемарины и даже кадеты. Выставлялись и «махальные», которые должны были предупредить о приближении кого-то из офицеров. Впрочем, корпусное начальство смотрело сквозь пальцы на этот «тайный» церемониал, уважая старые традиция своей альма-матер...

...Подобные шалости и проказы во многом скрашивали однообразие учебных будней, развивая в то же время творческую фантазию воспитанников.
На фоне этого молодого озорства все же главными приоритетами оставались для них понятия о долге мужестве и чести.
Имея много свободного времени (с 16 до 21 часа), воспитанники использовали его для углубленного самообразования. Кто-то брал уроки живописи, кто-то помимо двух обязательных языков изучал третий. Некоторые увлекались моделизмом (до сих пор в музее училища, хранятся две модели, выполненные кадетами). Многие увлекались изучением военно-морской истории, литературы, посещали театры, где за корпусом были закреплены ложи.
Поэтому отнюдь не случайно в списках выпускников Морского корпуса, наряду с блистательными именами флотоводцев, мореплавателей и ученых, мы встречаем имена выдающихся представителей русской культуры: композитора Н.А. Римского-Корсакова, художников В.В. Верещагина, А.П. Боголюбова, писателей К.М. Станюковича, С.А. Колбасьева, Л.С. Соболева.
Торжества
Корпусный праздник торжественно отмечался 6 ноября (день памяти Святого Павла Исповедника, в честь которого при Павле I освятили в 1797 году корпусную церковь). К праздничному обеду подавался традиционный гусь с яблоками, пломбир. Каждому индивидуально подавали конфеты в особой коробке с гербом Морского корпуса. Во время обеда в Столовом зале, где, наряду с командным составом и гостями, присутствовали и сами воспитанники, играл корпусной оркестр. Бал в Морском корпусе 6 ноября, как уже сказано, открывал зимний светский сезон в столице.
По особо торжественным случаям весь корпус и его известные выпускники приглашались в Зимний дворец. В свою очередь сами царствующие особы достаточно часто посещали старейшую альма-матер. Николай II в 1904 году лично вручал погоны выпускникам. В 1905 году он же поздравил окончивших корпус в Царском Селе.
Вступление в XX век было ознаменовано для воспитанников корпуса празднованием 200-летия своей альма-матер. На торжествах с участием Николая II, отца Иоанна Кронштадтского присутствовало более шести тысяч гостей. Корпус получил новое знамя с вышитыми датами «1701–1901». Почетное право «отнесения» знамени из Зимнего дворца в здание корпуса получил один из лучших гардемаринов выпускной роты, фельдфебель Алексей Щастный, который в 1918 году возглавил спасение Балтийского флота в знаменитом Ледовом походе и вскоре трагически погиб по приговору неправого суда.
Взвод гардемаринов был одет в день юбилея в исторические формы одежды – от Петра I до Николая II.
«Замечали нам все»
Важной традицией являлся и высокий профессионализм выпускников корпуса. Тщательный учет успехов позволял определить старшинство выпуска – место каждого выпускника в списке согласно его заслугам. От этого в дальнейшем зависело производство в очередной чин. Лучший выпускник заносился в «Книгу первых», а также на мраморную доску, и получал право выбора флота.
Директор и некоторые офицеры жили при корпусе. По воскресеньям директор нередко приглашал к себе на обед одного-двух воспитанников... Будущий офицер должен был с юных лет учиться достойно держать себя в любом обществе.
«Замечали нам все, – написал уже в наши дни один из питомцев корпуса, – как сидим в классе и стоим в строю, как здороваемся (чему специально обучали на уроках танцев в качестве вступительного упражнения), малейшую небрежность в одежде, грязные руки, плохо заправленные койки, как держим нож и вилку... Парадную форму поступившим в корпус выдавали индивидуально – по ходу успешной сдачи строевой подготовки». Те, кто строевые премудрости не освоил, переодевался перед городским отпуском (увольнением) во все свое.
Символом чести считались погоны. Самим строгим наказанием было временное лишение права их носить. Доблесть в бою ценилась превыше всего, имена выпускников – победителей или павших при исполнении воинского долга были окружены здесь особым почетом. В Столовом зале высекались на мраморных досках имена Георгиевских кавалеров, стены зала украшали пожалованные корпусу трофеи. На траурных досках в корпусной церкви были поименно перечислены выпускники, погибшие в сражениях и при различных обстоятельствах нелегкой морской службы.
Свои знамена имела каждая рота. Церемония их вручения в Столовом зале, как и парады, батальонные учения на набережной Невы занимали особое место в жизни кастового учебного заведения.

Директор корпуса на момент обучения там Дмитрия Чернышева – Григо́рий Па́влович Чухни́н (1848, Николаев – 28 июня 1906, Севастополь) – русский военно-морской деятель, вице-адмирал (6 апреля 1903 года), командующий Черноморским флотом.

Из дворян Херсонской губернии. Обучался в Александровском корпусе для малолетних дворянских детей в Царском селе. В августе 1858 года переведен в Морской кадетский корпус, в апреле 1865 года произведен в корабельные гардемарины. После двухлетнего плавания на фрегате «Светлана» в августе 1867 года произведен в мичманы и назначен на монитор «Латник». 1 января 1871 года произведен в лейтенанты. С 1869 по 1876 годы служил на фрегате «Князь Пожарский» и на корвете «Варяг». Хорошо рисовал, знал английский язык, очень любил садоводство.
Старший офицер крейсера «Азия» (1878–1879), корвета «Аскольд» (1879–1882), клипера «Гайдамак» (с 10 апреля 1882 года), фрегата «Генерал-адмирал» (1882–1886). Командир канонерской лодки «Манчжур» (1886–1890), броненосца береговой обороны «Не тронь меня» (1892), крейсера I ранга «Память Азова» (1892–1896). Побывал в Америке, в Копенгагене, ходил по Средиземному морю.
Младший флагман эскадры Тихого океана (1896, 1901–1902), командир Владивостокского порта (20 октября 1896 – 1 апреля 1901 года). С 1 апреля 1901 года младший флагман эскадры Тихого океана. С 1 июля 1902 года по 1904 год был начальником Николаевской морской академии и директором Морского кадетского корпуса.
2 апреля 1904 года назначен Главным командиром Черноморского флота и портов Черного моря.
Известно, что 15 ноября 1905 года Александр Иванович Куприн стал свидетелем жестокого подавления Севастопольского восстания 1905 на крейсере «Очаков» и даже спас от суда десятерых матросов. Подробности увиденного он описал в очерке «События в Севастополе». Когда очерк, опубликованный 1 декабря в петербургской газете «Наша жизнь», был прочитан в Севастополе, Чухнин приказал писателю в течение трех суток покинуть севастопольское губернаторство. Куприн в этом очерке отозвался о Чухнине как об адмирале, «который некогда входил в иностранные порты с повешенными матросами, болтавшимися на ноке», но в связи с чем была дана такая характеристика, найти пока не удалось.
27 января 1906 года член партии эсеров Екатерина Измайлович явилась во дворец Чухнина на прием под видом просительницы и выстрелила в него несколько раз из револьвера. Адмирал был ранен в плечо и в живот, но остался жив.
19 февраля 1906 года из столицы пришло Высочайшее распоряжение поступить с бунтовщиками по закону. 3 марта 1906 года Чухнин утвердил смертный приговор Петру Шмидту и другим участникам восстания.
Неудачное покушение на его жизнь заставило его окружить себя особой охраной. Тем не менее 28 июня 1906 года он был убит на собственной даче «Голландия» неизвестным боевиком, убийство было организовано Борисом Савинковым.
В напечатанных в журнале «Каторга и Ссылка», № 5 (18) за 1925 год воспоминаниях «Как я убил усмирителя Черноморского флота адмирала Чухнина» утверждается, что Чухнина убил автор статьи, матрос Черноморского флота Яков Акимов. Впрочем, если верить цитатам из газеты «Русское слово» от 13 июля (30 июня) 1906 года на сайте «Газетные старости», Акимова называли сразу: «Тело адмирала Чухнина перевезено во дворец. В совершении преступления подозревается матрос Акимов, помощник садовника дачи „Голландия“, скрывшийся в момент происшествия».
Похоронен в соборе Святого Владимира в Севастополе.
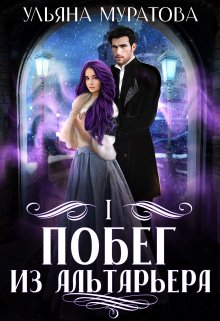

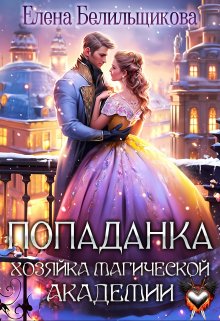

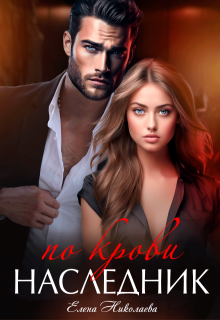



2 комментария
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарий
ВойтиМне еще более интересно. Благодарю! Иллюстрации, текст - выше всех похвал.
Прекрасная организация обучения и выявления лучших. И, при этом, жестокость в подавлении мятежа. А, ведь, он, мятеж, был оправдан.
Юлия Федотова, мятеж какой? на море их было достаточно много, и про кронштадтский у меня будет дальше, и про лейтенанта Шмидта вскользь, потому что он в Севастополе, моих героев там нет, все очень неоднозначно. Я много материала перелопатила, все очень неоднозначно, и однозначно не так. как писали в советских учебниках истории, а мы учили.
Ну вот, про Павла Александровича прочли, а про Морской корпус, видимо, никому не интересно.
Удаление комментария
Вы действительно хотите удалить сообщение ?
Удалить ОтменаКомментарий будет удален безвозвратно.
Блокировка комментирования
Вы дейтсвительно хотите запретить возможность комментировать ?
Запретить Отмена