Жила была девочка Доп. мат 7 Последний бал империи

Балы в Зимнем дворце назывались по имени тех залов, где устраивали танцы. На балы концертные и эрмитажные приглашались соответственно 700 и 200 персон, Николаевский же собирал 3000 человек, причем был не только первым в сезоне, но и единственным в году.
«Зрелище было феерическое, – вспоминает начальник канцелярии министра двора генерал Мосолов. – Январь. Лютый мороз. Дворец залит огнем на все три квартала, которые он занимал. Около монолитной Александрийской колонны с ангелом наверху зажжены костры. Кареты подъезжают одна за другой. Офицеры, не боявшиеся холода, подкатывают в санях, лошади покрыты синими сетками. Автомобили в это время считались просто игрушкой, капризной и полной неприятных неожиданностей...»
Попасть на Николаевский бал было непросто. Деньги и связи в данном случае значили мало. Для этого нужно было состоять в одном из четырех первых классов табели о рангах. Или же быть иностранным дипломатом или «старейшим офицером» гвардейских полков. Или же стать счастливцем, приглашенным по специальному указанию их величеств; впрочем, таких было немного. Приглашения распространялись на жен и дочерей, а вот сыновьям не везло. Мужчины могли попасть на бал, только если соответствовали предъявленным требованиям, заслуги и привилегии отцов на них не распространялись.
Билеты на вход во дворец рассылались заблаговременно, еще до Рождества, причем, поскольку во дворце не знали, кто из имеющих право на приглашение находится в Петербурге, существовала весьма любопытная форма самозаписи будущих гостей. Желающие попасть на первый январский бал должны были позаботиться о себе сами, записавшись в особый реестр у гофмаршала. Дам же, предварительно не представленных Ее Величеству, записывала обер-гофмейстерина, которая имела право отказать в приглашении; правда, этим правом она пользовалась очень редко.
Особую категорию гостей составляли молодые гвардейцы, для которых бал был важнейшей государственной обязанностью. Полку сообщалось, что надлежит послать столько-то танцоров, причем командир, назначая кандидатов, давал им весьма строгие указания: «Это, знаете, не забава... Вы не думайте там веселиться... Вы состоите в наряде и должны исполнять служебные обязанности... Танцуйте с дамами и занимайте их по мере возможности... Строго запрещается держаться группой в одном месте... Рассыпайтесь... Рассыпайтесь... Поняли?» Как правило, понимали, тем более что был памятен промах одного юного офицера, целый вечер проведшего возле красавицы-княжны Екатерины Долгорукой, впоследствии ставшей женой Александра Второго.
«Разве ты не знаешь, каково ее положение при дворе? – распекали юношу после бала. – Ты позоришь полк... Ступай и намотай себе на ус...» На ус намотал не только провинившийся, но и вся гвардия.
Гости съезжались около восьми с половиной, опаздывать было нельзя. Каждый знал, к какому подъезду надлежит прибыть именно ему: «Для великих князей открывался подъезд салтыковский, придворные лица входили через подъезд Их Величеств, гражданские чины являлись к иорданскому, а военные – к комендантскому подъезду».
Если бы не строгий этикет, то 3000 человек в колоссальном дворце могли бы создать настоящий хаос, но все было продумано до мелочей. Приглашенные поднимались по лестницам между двух рядов лейб-казаков в красивых бешметах и арапов, то есть придворных негров в больших тюрбанах (эти арапы являлись своего рода традицией, причем весьма дорогостоящей).
Дамы являлись в мехах – чернобурках и соболях, но с непокрытой головой, ибо замужние женщины должны быть в диадемах, а барышни – с цветами в волосах. Никто не имел права ввести во дворец своего личного лакея. К каждой шубе или ротонде прикрепляли визитную карточку владельца и отдавали придворному лакею, который вполголоса указывал, где именно его искать после бала. Казусов не случалось – прислуга была вышколена отменно.
Жесткие требования применялись и к гостям. В частности, к их внешнему виду, так что некоторым мужчинам приходилось подправлять природу. «У придворного чина ноги не должны быть ни слишком толстыми, ни слишком костлявыми, а панталоны положено было носить только до колена. Сказать правду, некоторые икры не всегда оставались там, где им быть полагалось. Особа вдруг нагибалась и начинала поворачивать свою икру, соскользнувшую наперед ноги». Разумеется, этого никто не видел – люди собирались воспитанные, но... вскоре о таких прискорбных происшествиях непостижимым образом узнавал весь Петербург.
Замечалось (и впоследствии обсуждалось) практически все. Особенно туалеты дам: «Опытный взгляд немедленно различал тех, кто не принадлежал к петербургскому свету. Например, очень свежее и очень дорогое платье свидетельствовало, что дама слегка из выскочек. Истинные аристократки не надевали последних моделей, когда ехали на николаевский бал: там их ожидала толпа, негде было надлежащим образом развернуться – только помнут платье от Ворта или Редферна».
Те, кто имел на это право, являлись в специальных «придворных» платьях, с большим декольте и шлейфом. На левой стороне корсажа прикреплялся или шифр (осыпанный бриллиантами вензель – отличительный знак фрейлины), или «портрет», окруженный бриллиантами, дававший его обладательнице высокое звание «портретной» дамы.
Кульминационным моментом был торжественный выход их величеств из Малахитового зала. Оркестр играл полонез (после премьеры «Евгения Онегина» музыка Чайковского стала неотъемлемой частью главного бала империи). Церемониймейстеры трижды ударяли своими жезлами – длинной тростью черного дерева с шаром слоновой кости наверху, двуглавым орлом и бантом Андреевской ленты. Арапы раскрывали двери, все склонялись.
По свидетельству очевидцев, придворный полонез был настоящим священнодействием. Обер-гофмаршал, окруженный церемониймейстерами, шел впереди царя, делая вид, что прокладывает путь. Император шествовал в первой паре под руку с женой главы дипломатического корпуса, великие князья распределяли между собой жен остальных дипломатов, а послы, соответственно, великих княгинь. Другие участвовать в этом полонезе не имели права.
После первого тура происходил обмен дамами, причем строго соблюдался ранг каждой из них. Количество туров зависело от того, сколько дам приглашено его величеством. После полонеза звучал вальс, собственно говоря, и открывавший бал как таковой. По зеркальному паркету кружилась первая пара – лучший танцор гвардии с заранее назначенной партнершей – открывавшая дорогу всем желающим. Однако, танцевали не все – возраст, положение (как правило, великие княгини в «легких» танцах не участвовали; правда, если же какая-либо желала танцевать, то поручала своему кавалеру привести указанного ею молодого человека), здоровье, просто «бальные разочарования». Множество людей толпилось у стен. «Зал огромен, – рассказывал Мосолов, – но и приглашенных немало, и все они норовили пройти вперед, так что свободное пространство постепенно сужалось. Я приглашал какую-нибудь барышню, достаточно дородную, и мы с нею заставляли зрителей потесниться. Зрители невольно отступали к украшенным портретами стенам».
Те, кто не танцевал, могли утешиться за разговорами и угощением. Лакеи постоянно обносили собравшихся конфетами, прохладительным питьем и мороженым, а в соседних залах «высились глыбы льда с кадушками шампанского», а на столах, украшенных пальмами и цветами, громоздились всевозможные лакомства. И это не считая ужина!
Как и всему на этом балу, вечерней трапезе было отведено совершенно определенное время. После мазурки. Именно в этот момент гости делились на две категории – тех, кто был приглашен в один зал с высочайшей фамилией, и всех остальных, которые были предоставлены сами себе. Разумеется, голодным и обиженным никто себя не чувствовал, но быть в составе избранных среди избранных оставалось пределом мечтаний многих.
Стол высочайших особ накрывался на особой эстраде, причем рассаживались за ним так, что публика, проходя через зал, могла видеть каждого ужинающего. Старшина дипломатического корпуса садился напротив государя, налево – совершеннолетний наследник престола или же брат государя.
Остальные великие князья и княгини размещались в соответствии с их рангом вперемежку с дипломатами и первыми чинами двора, армии и гражданской службы... «Без Андреевской ленты за этот стол попасть было трудновато».
В этом же зале находилось несколько круглых столов, сервированных на 12 человек каждый. Сам император, как правило, не ужинал, а обходил приглашенных, присаживаясь к столу, если желал с кем-нибудь переговорить. При этом ему тут же подавали стул и он всякий раз – требования этикета – разрешал гостям оставаться сидеть.
По окончании ужина государь брал императрицу под руку и отводил ее в Николаевский зал, где начинался котильон. «Вскоре высочайшие особы незаметно удалялись в свои апартаменты. На пороге Малахитового зала Их Величества прощались со свитой».
Вскоре разъезжались и гости, после чего измучившийся министр двора, свита, церемониймейстеры и обер-гофмаршал поднимались на верхний этаж, где для них сервировался особый ужин.
Гасли окна Зимнего дворца. Большой придворный бал был кончен. Сезон открыт.
Судя по описаниям, великолепие Николаевского бала превосходило все мыслимые границы. Потрясающей красоты залы, изумительная музыка, изысканнейший стол, блеск драгоценностей, о которых нужно сказать особо. Последняя императрица более всего любила крупный жемчуг (одно из ее колье доходило чуть ли не до колен), ее сестра Елизавета Федоровна (до тех пор, пока убийство мужа не отвратило ее от светской жизни) украшала свои золотистые волосы диадемой с изумрудом (камень был в три квадратных сантиметра). Остальные великие княгини появлялись в своих фамильных драгоценностях, причем цвет камней должен был соответствовать цвету платья («жемчуга и бриллианты или рубины и бриллианты – при розовых материях, жемчуга и бриллианты или сапфиры и бриллианты – при голубых»). Но нигде не было сказано, что приглашенные должны были выглядеть скромнее особ императорской крови. Все зависело от возможностей и вкуса.
Так что на балу можно было встретить женщин, ослепительных не только в переносном, но и в прямом смысле слова. «Диадема в два ряда крупных бриллиантов украшает ее русые волосы. На лбу сверкает бриллиант. Бриллиантовое ожерелье, декольте окружено цепочкой бриллиантов с большим цветком из тех же камней на спине, другие две цепи бриллиантов брошены через плечи и сходятся у броши, приколотой у пояса. Кольца с бриллиантами. Браслеты с бриллиантами...»
Недаром бывший начальник канцелярии министра двора уже спустя много лет заметил: «Когда я смотрю фильмы, изготовленные в Голливуде и изображающие будто бы «великолепие» русского двора, мне хочется смеяться!»
а еще нашла афиши балов того времени - альбом-каталог выставки "Грохочет бал, сияет бал", тут афиши балов с конца 19 до 1923 года. Я пока решила показать только до Первой Мировой.




Александр Мосолов. При дворе последнего императора
Старый князь Репнин, обер-гофмейстер двора, страдавший подагрой, испросил разрешения являться на балы в белых брюках, хотя правилами это и запрещалось. Докладывать ли об этом царю, или можно дать разрешение без его согласия?
Фредерикс был в большом затруднении. Наконец, он затронул этот вопрос во время своего еженедельного доклада.
– Конечно, решайте сами, – сказал царь. Но потом, немного подумав, заявил: – А впрочем, нет. Этим старикам будет неприятно узнать, что государь не занялся лично их просьбой. Вы явитесь ко мне, чтобы сказать, что такой-то все еще бодр, несмотря на свой ревматизм. И мне будет приятно узнать, что какой-нибудь предводитель киевского дворянства собирается на придворный бал. Такой доклад не займет много времени.
Гости все прибывают. Весь высший свет столицы поднимается по широким мраморным лестницам.
На дамах придворные платья с большим декольте и длинным шлейфом. В ту пору женщины были скромнее, чем теперь, и никто не являлся на бал только для того, чтобы похвастаться своими прекрасными плечами и шеей. В то время не было моды на бронзовый загар, и там, где коже полагалось быть белой, она была белой, как каррарский мрамор.
Церемониймейстеры, серьезные и изящные, медленно двигались в толпе, помогая вновь прибывшим. Выполняя свои обязанности, они держали в руках жезлы – длинные трости из черного дерева с шаром из слоновой кости наверху, двуглавым орлом и ярко-голубым бантом (андреевским узлом).
Я хочу рассказать об офицерах, которые приглашались на придворные балы. Я имел честь присутствовать на балах во время трех царствований и поэтому хорошо знаю, о чем говорю.
Офицерам редко присылалось личное приглашение. В полк просто сообщали, что на такой-то бал должно прибыть столько-то офицеров. Для конногвардейцев, пока я служил в этом полку, это число составляло пятнадцать человек. Командир сам назначал офицеров, которые должны были отправиться во дворец. Накануне бала счастливчики являлись к полковнику, который наставлял их:
– Помните, что вы едете во дворец вовсе не для того, чтобы развлекаться… Забудьте об удовольствиях. Вы отправляетесь на службу, поэтому ведите себя соответственно… Вы должны будете танцевать с дамами и всячески их развлекать… Вам строжайше запрещается стоять отдельной группой… рассыпайтесь по залу… рассыпайтесь. Понятно?
Гофмейстериной в то время была тетка нашего полкового командира. Весь вечер она внимательно наблюдала за офицерами, впервые прибывшими на бал. Понравившийся ей гвардеец получал личное приглашение на концертный или эрмитажный бал. Тот же, кто производил исключительно благоприятное впечатление, удостаивался приглашения на балы, которые гофмейстерина устраивала у себя на дому и где царила ужасная скука.
Мне удалось ей понравиться. Меня сразу же внесли в список офицеров, дежурящих во время церемоний, и стали лично приглашать на все балы.
Но не всем так везло. Один из моих друзей, молоденький поручик, навлек на себя гнев из-за княжны Долгорукой, которая позже стала морганатической супругой Александра II. Княжна была удивительно хороша собой, и до моего несчастного друга только в конце бала дошло, что он весь вечер провел, не отходя от этой красавицы.
В полку ему указали на его недостойное поведение:
– Тебя представили княжне Долгорукой… Ты мог бы пригласить ее, более того, ты просто обязан был пригласить ее на вальс… Вместо этого ты проторчал около нее весь вечер… Это просто невероятно!.. Неужели ты не знаешь, какое положение при дворе она занимает?.. Ты оскорбил княжну… опозорил наш полк… Можешь идти, да подумай о том, что тебе сказали.
Неудивительно поэтому, что я отправлялся на свой первый бал с замиранием сердца.
Но вернемся к Николаевскому балу.
Великий момент приближался. В дверях Малахитового зала появились их величества, шедшие во главе процессии.
Оркестр заиграл полонез. Церемониймейстеры три раза ударили своими жезлами, арапы открыли двери, и все присутствовавшие повернулись к процессии.
В то время императрице Александре Федоровне было около тридцати лет. Она была в расцвете своей красоты: высокая, представительная блондинка, неторопливая и изящная в движениях. Она обожала жемчуг – одно из ее ожерелий ниспадало до самых колен.
Ее сестра великая княгиня Елизавета Федоровна была еще красивей и стройнее, хотя была на восемь лет старше сестры. В ее золотистых волосах красовалась диадема с огромной жемчужиной наверху.
Все великие княгини надели свои фамильные драгоценности, с рубинами или сапфирами. Камни подбирались, конечно, под цвет одежды: жемчуга с алмазами или рубины с алмазами – для розовых тканей, сапфиры и алмазы или жемчуга – для голубых.
Придворный полонез был государственным делом. Царь протягивал руку жене старшины дипломатического корпуса. Великие князья приглашали жен дипломатов, а послы танцевали с великими княгинями. Гофмаршал, окруженный церемониймейстерами, с жезлами в руках, шел впереди царя, словно расчищая перед ним дорогу. Обойдя зал один раз, менялись партнершами, строго соблюдая их старшинство. Зал обходили столько раз, сколько его величество считал необходимым сменить партнерш. Никто из гостей, кроме тех, что я назвал, не удостаивался чести танцевать полонез.
Сразу же после него начинался вальс. Его исполняли на два па, не так, как теперь.
Один из лучших танцоров гвардии открывал бал в паре с заранее назначенной для этого девицей. Зал был огромен, но гостей собиралось очень много, и все они хотели увидеть его величество, так что круг, где размещались танцующие, непрерывно сужался. Во времена Александра II за этим следил барон Мейендорф, конногвардеец. Он избрал меня своим помощником. Барон давал мне команду расширить пространство для танцев. Тогда я галантно приглашал мадемуазель Марию Васильчикову, довольно дородную фрейлину, и мы кружились с ней по залу, заставляя толпу отступать назад. Была также мадемуазель Гурко, которой тоже хорошо удавался этот маневр – зрители отступали к украшенным картинами стенам.
Должен отметить, что, если какая-нибудь из великих княгинь хотела танцевать, она посылала своего «кавалера», чтобы он привел ей того, кого она выберет. Но великие княгини редко участвовали в легких танцах. Было только одно исключение – красивая и грациозная Елена Владимировна, дочь великого князя Владимира, страстная любительница вальса. Офицерам разрешалось самим приглашать ее, не ожидая, пока она пошлет за кем-нибудь из них. Я уверен, что все они были влюблены в нее.
Во время танцев лакеи разносили конфеты, освежающие напитки и лед. В соседних залах были видны большие глыбы льда, среди которых лежали бутылки с шампанским. Трудно передать словами все изобилие пирожных и птифуров, фруктов и других деликатесов, которое заполняло буфеты, украшенные пальмами и цветами.
Во время концертного или эрмитажного балов ряд комнат Зимнего дворца оставался пустым. Можно было предложить руку своей даме и увести ее из танцевального зала, минуя многочисленные покои. Музыка, шум разговоров и жара оставались где-то далеко… Эти бесконечные, полуосвещенные покои казались гораздо гостеприимнее и уютнее. То там, то здесь встречались часовые и дежурные офицеры. Можно было добрых полчаса бродить по этим комнатам. За высокими окнами виднелась замерзшая Нева, сверкавшая в дворцовых огнях. Это было как в сказке. И невольно возникал вопрос – сколько раз еще тебе суждено это увидеть?
Во время мазурки императрица стояла под портретом Николая I и разговаривала со своим партнером, одним из старших офицеров гвардии, довольно молодым человеком. Когда танец заканчивался, царь с царицей удалялись в зал, где был накрыт ужин. Как обычно, впереди них шествовал церемониймейстер.
У государя была изумительная память на лица. Если он спрашивал имя молодой девушки, шедшей с каким-нибудь офицером, то можно было не сомневаться, что это дебютантка и церемониймейстерам придется нелегко, если они сами видели ее впервые и не знали, как ее зовут.
После ужина царь возвращался к императрице и отводил ее в Николаевский зал, где сразу же после этого начинался котильон. Августейшая чета пользовалась этим, чтобы незаметно для гостей удалиться во внутренние покои. При входе в Малахитовый зал их величества отпускали свою свиту.
Только тогда министр двора, церемониймейстеры и гофмаршал отправлялись в соседний зал, где их ждал ужин.
Большой бал заканчивался.
Немного интересного про бал 1903 года

В течение нескольких месяцев весь двор занимался подготовкой к маскараду. На бал приглашенные явились в самых разнообразных нарядах: бояр, боярынь, ловчих, стольников, пушкарей, посадских людей, воевод… Великий князь Михаил Николаевич был в костюме атамана запорожских казаков; великая княгиня Мария Георгиевна – в платье крестьянки из Торжка; графиня В.Д. Воронцова-Дашкова оделась казачкой; великий князь Сергей Александрович и великая княгиня Елизавета Федоровна блистали великолепными княжескими одеждами. Костюмы присутствующих на бале офицеров Кавалергардского полка ее величества государыни императрицы Марии Федоровны повторяли форму стрельцов Стремянского приказа. Государь появился в выходном платье царя Алексея Михайловича – золотом парчовом кафтане и опашне с нашивками, в шапке, с жезлом в руке. Императрица Александра Федоровна блистала в наряде царицы Марии Ильиничны: в парчовом платье с серебряными нашивками, в корунде с убрусами, бриллиантами и изумрудами." Придворные дамы были одеты в сарафаны и кокошники, а кавалеры в костюмах стрельцов или сокольничих. "Большой бал" собрал около четырёхсот человек, в том числе всех иностранных послов. Среди гостей присутствовали назначенные императрицей 65 «танцующих офицеров», также в одежде стрельцов или сокольничьих XVII века. Члены царской семьи собрались в Малахитовой гостиной, остальные – в прилегающих помещениях. В одиннадцатом часу вечера все участники перешли танцевать в Концертный зал, где за позолоченной решеткой на подиуме находился придворный оркестр в костюмах трубачей царя Алексея Михайловича, а в большом Николаевском зале были расставлены 34 круглых стола для ужина. Буфеты располагались в Концертном зале и Малой столовой, столики с чаем и вином – в Малахитовом зале. Ужин сопровождался знаменитым Архангельским хором.

«Впечатление получилось сказочное, — писал очевидец события, — от массы старинных национальных костюмов, богато украшенных редкими мехами, великолепными бриллиантами, жемчугами и самоцветными камнями, по большей части в старинных оправах. В этот день фамильные драгоценности появились в таком изобилии, которое превосходило всякие ожидания»
Танцы проходили в Концертном зале Эрмитажа (придворный оркестр также был одет в древнерусские костюмы), и продолжались до часа ночи. Общие вальсы, кадрили и мазурки начались после исполнения специально подготовленных трех танцев: русского, хоровода и плясовой под руководством главного режиссера балетной труппы Аистова и танцовщика Кшесинского. Танцы продолжались до третьего часа ночи. Особый восторг присутствующих вызвал русский танец в исполнении 20 пар, среди которых были графиня Т.А. Голинищева-Кутузова, баронесса В.К. Меендорф, княжна В.А. Долгорукова, сестры Танеевы. Солировали великая княгиня Елизавета Федоровна в костюме княгини и княгиня З.Н. Юсупова в костюме боярыни. Костюмы в русском стиле гармонично вписывались в обстановку дворцовых зал, поражали искусным исполнением. Все это придавало блеск и великолепие торжественному событию такого рода. Кавалерами выступали молодые офицеры гвардейских полков: кавалергарды, конногвардейцы и уланы. Группа танцующих прошла серьезную подготовку: 10 февраля 1903 года на генеральной репетиции в Павильонном зале дамы явились в сарафанах и кокошниках, мужчины – в костюмах стрельцов, сокольничих и др. В качестве "жюри" на репетиции присутствовали Императрица Александра Федоровна и Великая княгиня Елизавета Федоровна.

Великий князь Александр Михайлович описывал костюмы участников бала следующим образом: "Ксения была в наряде боярыни, богато вышитом, сиявшем драгоценностями, который ей очень шел. Я был одет в платье сокольничего, которое состояло из белого с золотом кафтана с нашитыми на груди и спине золотыми орлами, розовой шелковой рубашки, голубых шаровар и желтых сафьяновых сапог. Остальные гости следовали прихоти своей фантазии и вкуса, оставаясь, однако, в рамках эпохи XVII века….Алике выглядела поразительно, но государь для своего роскошного наряда был недостаточно велик ростом. На балу шло соревнование за первенство между великой княгиней Елизаветой Федоровной (Эллой) и княгиней Зинаидой Юсуповой….Бал прошел с большим успехом и был повторен во всех деталях через неделю в доме богатейшего графа А.Д. Шереметева»., который состоялся 14 февраля того же года."


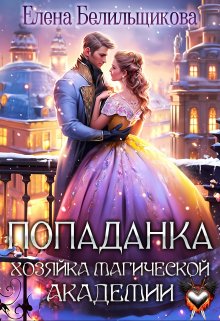
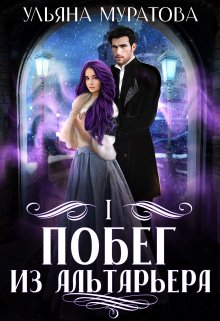

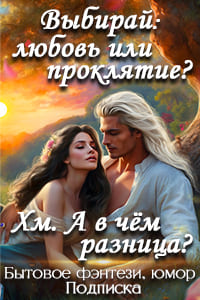

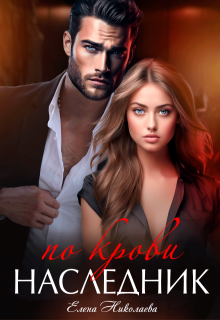



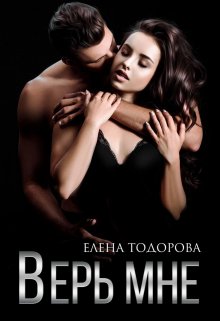
3 комментария
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарий
ВойтиОчень интересно. Спасибо большое.
Рада, что нравится
как интересно, огромное спасибо
Аленушка, на здоровье)))
Роскошно
Юлия Федотова, есть прекрасный фильм документальный. Так и называется Последний бал империи, погуглите, очень советую, книга закончена, с понедельника начну выкладку второй, и там еще есть в блоге дополнения по 18-19 главам
Удаление комментария
Вы действительно хотите удалить сообщение ?
Удалить ОтменаКомментарий будет удален безвозвратно.
Блокировка комментирования
Вы дейтсвительно хотите запретить возможность комментировать ?
Запретить Отмена